
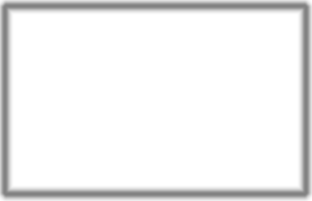

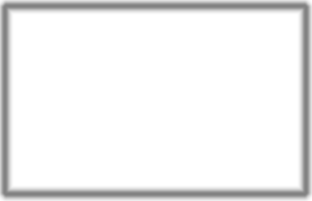
| Коммунальная квартира: Из книг | Communal Living in Russia: From Books |
| Из мемуаров и очерков: Полторы комнаты | From Non-fiction: In a Room and a Half |
| Краткое описание | Summary |
| Иосиф Бродский, «Полторы комнаты», Новый Мир N 2, 1995, пер. Д.Чекалов. Фрагменты. | "In a Room and a Half" from Less Than One, Selected Essays by Joseph Brodsky. Excerpt. |
| Транскрипт | Translation of the Russian Transcript |
|
Посвящается L.K.
1. Может быть, конечно, она просто считала эту привычку невоспитанностью, обычным неумением себя вести. Мужские ноги пахнут, а эпоха дезодорантов еще не наступила. И все же я думал, что в самом деле можно легко поскользнуться и упасть на паркете, натертом до блеска, особенно если ты в шерстяных носках. И что если ты хрупок и стар, последствия могут быть ужасны. Связь паркета с деревом, землей и т.д. распространялась в моем представлении на всякую поверхность под ногами близких и дальних родственников, живших с нами в одном городе. На любом расстоянии поверхность была все той же. Даже жизнь на другом берегу реки, где впоследствии я снимал квартиру или комнату, не составляла исключения, ибо слишком много в том городе рек и каналов. И хотя некоторые из них достаточно глубоки для морских судов, смерти, я думал, они покажутся мелкими, либо в своей подземной стихии она может проползти под их руслами. Теперь ни матери, ни отца нет в живых. Я стою на побережье Атлантики: масса воды отделяет меня от двух оставшихся теток и их отпрысков — настоящая пропасть, столь великая, что ей впору смутить саму смерть. Теперь я могу расхаживать в носках сколько душе угодно, так как у меня нет родственников на этом континенте. Единственная смерть в доме, которую я теперь могу навлечь, это, по-видимому, моя собственная, что, однако, означало бы смешение приемного и передаточного устройств. Вероятность такой путаницы мала, и в этом отличие электроники от суеверия. Если я все-таки не расхаживаю в носках по широким, канадского клена половицам, то не потому, что такая возможность тем не менее существует, и не из инстинкта самосохранения, но потому, что моя мать бы этого не одобрила. Вероятно, мне хочется хранить привычки нашей семьи теперь, когда я — это все, что от нее осталось.
2. [...] Они всё принимали как данность: систему, собственное бессилие, нищету, своего непутевого сына. Просто пытались во всем добиваться лучшего: чтоб всегда на столе была еда — и чем бы еда эта ни оказывалась, поделить ее на ломтики; свести концы с концами и, невзирая на то, что мы вечно перебивались от получки до получки, отложить рубль-другой на детское кино, походы в музей, книги, лакомства. Те посуда, утварь, одежда, белье, что мы имели, всегда блестели чистотой, были отутюжены, заплатаны, накрахмалены. Скатерть — всегда безупречна и хрустела, на абажуре над ней — ни пылинки, паркет был подметен и сиял. [...]
4. После революции, в соответствии с политикой «уплотнения» буржуазии, анфиладу поделили на кусочки, по комнате на семью. Между комнатами были воздвигнуты стены — сначала из фанеры. Впоследствии, с годами, доски, кирпичи и штукатурка возвели эти перегородки в ранг архитектурной нормы. Если в пространстве заложена идея бесконечности, то — не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: камера, чулан, могила. Для просторов остается лишь широкий жест. В СССР минимальная норма жилой площади 9 м2 на человека. Следовало считать, что нам повезло, ибо в силу причудливости нашей части анфилады мы втроем оказались в помещении общей площадью 40 м2. Сей излишек связан с тем, что при получении нашего жилища мои родители пожертвовали двумя отдельными комнатами в разных частях города, где они жили до женитьбы. Это понятие о квартирном обмене — или лучше просто обмене (ввиду несомненности предмета) — нет способа передать постороннему, чужестранцу. Имущественные законодательства окутаны тайной повсюду, но иные из них таинственней других, в особенности когда недвижимостью владеет государство. Деньги, к примеру, тут ни при чем, поскольку в тоталитарном государстве доходы граждан не слишком дифференцированы, говоря иначе, все равны в нищете. Вы не покупаете жилье: в лучшем случае вам положена комната, по размеру равная занимаемой вами ранее. Если вас двое и вы решили съехаться, то вам, следовательно, причитается помещение, равноценное общей площади ваших прежних жилищ. Но что именно вам причитается, решают чиновники из райжилотдела. Взятки бесполезны, ибо иерархия этих чиновников, в свою очередь, чертовски таинственна, а их первое побуждение — дать вам поменьше. Обмены длятся годами, и единственный ваш союзник — усталость, то есть вы можете надеяться взять их измором, отказываясь от всего, размером уступающего тому, чем вы располагали прежде. Помимо абстрактной арифметики, на их решение также влияет уйма разнородных допущений, никогда не оговариваемых законом, связанных с вашим возрастом, национальной и расовой принадлежностью, профессией, возрастом и полом вашего ребенка, социальным происхождением и местом рождения, не говоря уже о производимом вами личном впечатлении и пр. Только чиновники знают, что есть в наличии, лишь они устанавливают соответствие и вольны отнять или накинуть пару квадратных метров. А как много эти два метра значат! Можно разместить на них книжный шкаф, а еще лучше — письменный стол.
5 Разумеется, мы все делили один клозет, одну ванную и одну кухню. Но кухню весьма просторную, клозет очень приличный и уютный. Что до ванной, — русские гигиенические привычки таковы, что одиннадцать человек нечасто сталкивались, принимая ванну или стирая белье. Оно висело в двух коридорах, соединявших комнаты с кухней, и каждый из нас назубок знал соседское исподнее. Соседи были хорошими соседями и как люди, и оттого, что все без исключения ходили на службу и, таким образом, отсутствовали лучшую часть дня. За исключением одной из них, они не были доносчиками; неплохое для коммуналки соотношение. Но даже она, приземистая, лишенная талии женщина, хирург районной поликлиники, порой давала врачебный совет, подменяла в очереди за какой-нибудь съестной редкостью, приглядывала за вашим кипящим супом. Как там в «Расщепителе звезд» у Фроста? «Общительность склоняет нас к прощенью». При всех неприглядных сторонах этой формы бытия, коммунальная квартира имеет, возможно, также и сторону, их искупающую. Она обнажает самые основы существования: разрушает любые иллюзии относительно человеческой природы. По тому, кто как пернул, ты можешь опознать засевшего в клозете, тебе известно, что у него (у нее) на ужин, а также на завтрак. Ты знаешь звуки, которые они издают в постели, и когда у женщин менструация. Нередко именно тебе сосед поверяет свои печали, и это он (или она) вызывает «скорую», случись с тобой сердечный приступ или что-нибудь похуже. Наконец, он (или она) однажды могут найти тебя мертвым на стуле — если ты живешь один — и наоборот. Какими колкостями или медицинскими и кулинарными советами, какой доверительной информацией о продуктах, появившихся вдруг в одном из магазинов, обмениваются по вечерам на коммунальной кухне жены, готовящие пищу! Именно тут учишься житейским основам — краем уха, уголком глаза. Что за тихие драмы открываются взору, когда кто-то с кем-то внезапно перестал разговаривать! Какая это школа мимики! Какую бездну чувств может выражать застывший, обиженный позвоночник или ледяной профиль! Какие запахи, ароматы и благоухания плавают в воздухе вокруг стоваттной желтой слезы, висящей на растрепанной косице электрического шнура. Есть нечто племенное в этой тускло освещенной пещере, нечто изначально эволюционное, если угодно; и кастрюли, и сковородки свисают над газовыми плитами, словно желая стать тамтамами. [...]
20. Следовало изобрести полумеру, и как раз на этом я сосредоточился начиная с пятнадцати лет. Испробовал всевозможные умопомрачительные приспособления и одно время даже помышлял о сооружении четырехметровой высоты аквариума с дверью посередине, которая соединяла бы мою половину с их комнатой. Надо ли объяснять, что такой архитектурный подвиг был мне не по зубам. Итак, решением оказалось приумножение книжных полок с моей стороны, прибавление и уплотнение складок драпировки — с родительской. Нечего и говорить, что им не нравились ни решение, ни подоплека самого вопроса. Количество друзей и приятельниц, однако, возрастало не так быстро, как сумма книг; к тому же последние оставались при мне. У нас имелись два платяных шкафа с зеркалами на дверцах в полную величину, ничем другим не примечательных, но довольно высоких и потому уладивших полдела. По их сторонам и над ними я смастерил полки, оставив узкий проход, по которому родители могли протиснуться на мою половину, а я, соответственно, к ним. Отец недолюбливал сооружение в особенности потому, что в дальнем конце моей половины он сам отгородил темный угол, где обычно проявлял и печатал фотографии и откуда поступала немалая часть наших средств к существованию. В том конце моей половины была дверь. Когда отец не работал в темном закутке, я входил и выходил, пользуясь ею. «Чтобы не беспокоить вас», — говорил я родителям, но в действительности с целью избежать их наблюдения и необходимости знакомить с ними моих гостей и наоборот. Для затемнения подоплеки этих визитов я держал электропроигрыватель, и родители постепенно прониклись ненавистью к И.С.Баху. Еще позднее, когда и количество книг, и потребность в уединении драматически возросли, я дополнительно разгородил свою половину посредством перестановки тех двух шкафов таким образом, чтобы они отделяли мою кровать и письменный стол от темного закутка. Между ними я втиснул третий, который бездействовал в коридоре. Отодрал у него заднюю стенку, оставив дверцу нетронутой. В результате чего гостю приходилось попадать в мой Lebensraum*, минуя две двери и одну занавеску. Первой дверью была та, что вела в коридор; затем вы оказывались в отцовском закутке и отодвигали занавеску; оставалось открыть дверцу бывшего платяного шкафа. На шкафы я сложил все имевшиеся у нас чемоданы. Их было много; и все же они не доходили до потолка. Суммарный результат походил на баррикаду; за ней, однако, Гаврош чувствовал себя в безопасности, и некая Марианна могла обнажить не только бюст.
21. Два зеркальных шкафа и между ними проход — с одной стороны; высокое зашторенное окно точно в полуметре над коричневым, довольно широким диваном без подушек — с другой; арка, заставленная до мавританской кромки книжными полками, — сзади; заполняющие нишу стеллажи и письменный стол с ундервудом у меня перед носом — таков был мой Lebensraum. Мать убирала его, отец пересекал взад-вперед по пути в свой закуток; иногда он или она находили убежище в моем потрепанном, но уютном кресле после очередной словесной стычки. В остальном эти десять квадратных метров принадлежали мне, и то были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал. Если пространство обладает собственным разумом и способно выказывать предпочтение, то существует вероятность, что хотя бы один из тех десяти метров тоже может вспоминать обо мне с нежностью. Тем более теперь, под чужими ногами.
*Lebensraum Жизненное пространство (нем.) [Перевод Д.Чекалова. Фрагменты цитируются по изданию Иосиф Бродский, «Полторы комнаты», в сборнике «Меньше единицы», том V собрания «Сочинения Иосифа Бродского», Санкт-Петербург, MCMXCIX, © Joseph Brodsky «Фонд Наследственного Имущества Иосифа Бродского», 1999; © Издательство «Farrar, Strauss & Giroux», 1999. Приводится на этом сайте с разрешения изд-ва Farrar, Straus and Giroux и Фонда наследства. В несколько иной редакции перевод был опубликован в журнале «Новый Мир» No. 2, 1995. Полный текст русского перевода можно прочитать на сайте http://www.lib.ru/BRODSKIJ/rooms.txt.] ВНИМАНИЕ: Настоящий текст защищен законами об авторских правах. Скачивание и копирование этого текста в любой форме требует предварительного письменного разрешения изд-ва Farrar, Straus and Giroux. CAUTION: Users are warned that this work is protected under copyright laws and downloading is strictly prohibited. The right to reproduce or transfer the work via any medium must be secured with Farrar, Straus and Giroux, LLC.
|
To L.K.
1. Of course, it might be that she simply regarded this habit as uncivilized, as plain bad manners. Men's feet smell, and that was the pre-deodorant era. Yet I thought that, indeed, one could easily slip and fall on a polished parquet, especially if one wore woolen socks. And that if one were old and frail, the consequences could be disastrous. The parquet's affinity with wood, earth, etc., thus extended in my mind to any ground under the feet of our close and distant relatives who lived in the same town. No matter what the distance, it was the same ground. Even living on the other side of the river, where I would subsequently rent an apartment or a room of my own, didn't constitute an excuse, for there were too many rivers and canals in that town. And although some of them were deep enough for the passage of seagoing ships, death, I thought, would find them shallow, or else, in its standard underground fashion, it could creep across under their bottoms. Now my mother and my father are dead. I stand on the Atlantic seaboard: there is a great deal of water separating me from two surviving aunts and my cousins: a real chasm, big enough to confuse even death. Now I can walk around in my socks to my heart's content, for I have no relatives on this continent. The only death in the family I can now incur is presumably my own, although that would mean mixing up transmitter with receiver. The odds of that merger are small, and that is what distinguishes electronics from superstition. Still, if I don't tread these broad Canadian-maple floorboards in my socks, it's neither because of this certitude nor out of an instinct for self-preservation, but because my mother wouldn't approve of it. I suppose I want to keep things the way they were in our family, now that I am what's left of it.
2. [...] They took everything as a matter of course: the system, their powerlessness, their poverty, their wayward son. They simply tried to make the best of everything: to keep food on the table—and whatever that food was, to turn it into morsels; to make ends meet—and although we always lived from payday to payday, to stash away a few rubles for the kid's movies, museum trips, books, dainties. What dishes, utensils, clothes, linen we had were always clean, polished, ironed, patched, starched. The tablecloth was always spotless and crisp, the lampshade above it dusted, the parquet shining and swept. [...]
4. After the Revolution, in accordance with the policy of "densing up" the bourgeoisie, the enfilade was cut up into pieces, with one family per room. Walls were erected between the rooms—at first of plywood. Subsequently, over the years, boards, brick, and stucco would promote these partitions to the status of architectural norm. If there is an infinite aspect of space, it is not its expansion but its reduction. If only because the reduction of space, oddly enough, is always more coherent. It's better structured and has more names: a cell, a closet, a grave. Expanses have only a broad gesture. In the U.S.S.R., the living quarters' minimum per person is 9 square meters. We should have considered ourselves lucky, because due to the oddity of our portion of the enfilade, the three of us wound up with a total of 40 meters. That excess had to do also with the fact that we had obtained this place as the result of my parents' giving up the two separate rooms in different parts of town in which they had lived before they got married. This concept of exchange—or, better still, swap (because of the finality of this exchange)—is something there is no way to convey to an outsider, to a foreigner. Property laws are arcane everywhere, but some of them are more arcane than others, especially when your landlord is the state. Money has nothing to do with it, for instance, since in a totalitarian state income brackets are of no great variety—in other words, every person is as poor as the next. You don't buy your living quarters: at best, you are entitled to the square equivalent of what you had before. If there are two of you, and you decide to live together, you are therefore entitled to an equivalent of the square sum total of your previous residences. And it is the clerks in the borough property office who decide what you are going to get. Bribery is of no use, since the hierarchy of those clerks is, in its turn, terribly arcane, and their initial impulse is to give you less. The swaps take years, and your only ally is fatigue; i.e., you may hope to wear them down by refusing to move into something quantitatively inferior to what you previously had. Apart from pure arithmetic, what goes into their decision is a vast variety of assumptions never articulated in law, about your age, nationality, race, occupation, the age and sex of your child, social and territorial origins, not to mention the personal impression you make, etc. Only the clerks know what is available, only they judge the equivalence and can give or take a few square meters here and there. And what a difference those few square meters make! They can accommodate a bookshelf or, better yet, a desk.
5. Of course, we all shared one toilet, one bathroom, and one kitchen. But the kitchen was fairly spacious, the toilet very decent and cozy. As for the bathroom, Russian hygienic habits are such that eleven people would seldom overlap when either taking a bath or doing their basic laundry. The latter hung in the two corridors that connected the rooms to the kitchen, and one knew the underwear of one's neighbors by heart. The neighbors were good neighbors, both as individuals and because all of them were working and thus absent for the better part of the day. Save one, they didn't inform to the police; that was a good percentage for a communal apartment. But even she, a squat, waistless woman, a surgeon in the nearby polyclinic, would occasionally give you medical advice, take your place in the queue for some scarce food item, keep an eye on your boiling soup. How does that line in Frost's "The Star-Splitter" go? "For to be social is to be forgiving"? For all the despicable aspects of this mode of existence, a communal apartment has perhaps its redeeming side as well. It bares life to its basics: it strips off any illusions about human nature. By the volume of the fart, you can tell who occupies the toilet, you know what he/she had for supper as well as for breakfast. You know the sounds they make in bed and when the women have their periods. It's often you to whom your neighbor confides his or her grief, and it is he or she who calls for an ambulance should you have an angina attack or something worse. It is he or she who one day may find you dead in a chair, if you live alone, or vice versa. What barbs or medical and culinary advice, what tips about goods suddenly available in this or that store are traded in the communal kitchen in the evening when the wives cook their meals! This is where one learns life's essentials, by the rim of one's ear, with the corner of one's eye. What silent dramas unfurl there when somebody is all of a suddenly not on speaking terms with someone else! What a school of mimics it is! What depth of emotion can be conveyed by a stiff, resentful vertebra or by a frozen profile! What smells, aromas, and odors float in the air around a hundred-watt yellow tear hanging on a plaitlike tangled electric cord. There is something tribal about this dimly lit cave, something primordial—evolutionary, if you will; and the pots and pans hang over the gas stoves like would-be tom-toms. [...]
20. One had to design a palliative, and that was what I was busy at from the age of fifteen on. I went through all sorts of mind-boggling arrangements, and at one time even contemplated building-in a twelve-foot-high aquarium, which would have in the middle of it a door connecting my half with the room. Needless to say, that architectural feat was beyond my ken. The solution, then, was more and more bookshelves on my side, more and thicker layers of drapery on my parents'. Needless to say, they liked neither the solution nor the nature of the problem itself. Girls and friends, however, grew in quantity more slowly than did the books; besides, the latter were there to stay. We had two armoires with full-length mirrors built into their doors and otherwise undistinguished. But they were rather tall, and they did half the job. Around and above them I built the shelves, leaving a narrow opening through which my parents could squeeze into my half, and vice versa. My father resented the arrangement, particularly since at the farthest end of my half he had built himself a darkroom where he was doing his developing and printing, i.e., where the large part of our livelihood came from. There was a door in that end of my half. When my father wasn't working in his darkroom, I would use that door for getting in and out. "So that I won't disturb you," I told my parents, but actually it was in order to avoid their scrutiny and the necessity of introducing my guests to them, or the other way around. To obfuscate the nature of those visits, I kept an electric gramophone, and my parents gradually grew to hate J.S.Bach. Still later, when books and the need for privacy increased dramatically, I partitioned my half further by repositioning those armoires in such a way that they separated my bed and my desk from the darkroom. Between them, I squeezed a third one that was idling in the corridor. I tore its back wall out, leaving its door intact. The result was that a guest would have to enter my Lebensraum through two doors and one curtain. The first door was the one that led into the corridor; then you'd would find yourself standing in my father's darkroom and removing a curtain; the next thing was to open the door of the former armoire. Atop the armoires, I piled all the suitcases we had. They were many; still, they failed to reach the ceiling. The net effect was that of a barricade; behind it, though, the gamin felt safe, and a Marianne could bare more than just her breast.
21. Two mirrored armoires and the passage between them on one side; the tall draped window with the windowsill just two feet above my rather spacious brown cushionless couch on the other; the arch, filled up to its Moorish rim with bookshelves behind; the niche-filling bookcase and my desk with the Royal Underwood in front of my nose—that was my Lebensraum. My mother would clean it, my father would cross it on his way back and forth to his darkroom; occasionally he or she would come for refuge in my worn-out but deep armchair after yet another verbal skirmish. Other than that, these ten square meters were mine, and they were the best ten square meters I've ever known. If space has a mind of its own and generates its own distribution, there is a chance some of these square meters, too, many remember me fondly. Now especially, under a different foot.
[Excerpt from "In a Room and a Half" from Less Than One, Selected Essays by Joseph Brodsky. Copyright © 1986 by Joseph Brodsky. Used by permission of Farrar, Straus and Giroux, LLC. All rights reserved.] CAUTION: Users are warned that this work is protected under copyright laws and downloading is strictly prohibited. The right to reproduce or transfer the work via any medium must be secured with Farrar, Straus and Giroux, LLC. This essay (with numerous, though small, textual differences) was also published in Volume 33, Number 3 of The New York Review of Books (February 27, 1986).
|